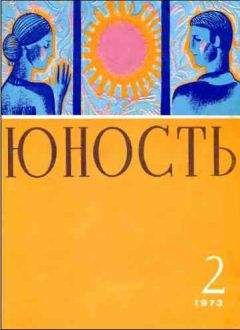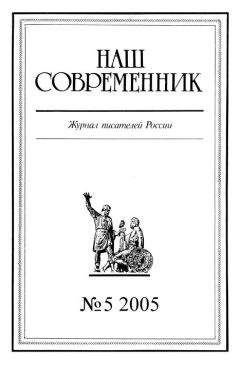Журнал Юность - Журнал `Юность`, 1974-7
Преотлично. Смотрю на стенку — на меня глядит белокурая застекленная Маша. Смотрю долго, говорю ей: «Улыбнись, Маша… Это ничего, что ты умерла. Голосков тебя любит — значит, ты еще живешь. Ты, конечно, умрешь когда-нибудь, когда умрут твои родители и женится Голосков. А может, и тогда ты будешь жить в нем, до его последнего дня. Он парень упрямый, кряжистый… Все равно ты счастливая, Маша: у тебя был Голосков. Ну, улыбнись, пожалуйста…» И Маша улыбается — я вижу ее сощуренные, голубые, огромные глаза, лучики морщинок возле них, чуть раздвинутые губы. «Вот и хорошо. И Голосков скоро уедет в свою родную Москву, будет учиться на врача, ходить по тем улицам и бульварам, где вы ходили вместе. Будет всегда помнить тебя…»
Теперь надо подмести в комнате. Веника, понятно, нет. Одеваюсь, выхожу во двор, бреду по глубокому снегу до первой елки, ломаю ветки. Руки чернеют от смолы, а когда вхожу в комнату, запах оттаявшего леса наполняет ее. Для берлоги — это то, что надо. Мету, выгребаю мусор за порог. Веник сую в угол возле умывальника: пусть еще долго пахнет смолой.
Принимаюсь за книги. Их много, сложены вроде аккуратно, но можно лучше. Отгораживаю стулом часть стены от окна к углу, укладываю, воображая стеллаж. Художественные, политические, исторические, медицинские. Больше по медицине. Поднимаю крупный том — «Хождение по мукам». Мировая книга, говорят. Надо попросить у младшего лейтенанта. А вот «Лечебная гимнастика», «Мозговые оболочки», «Микседема», «Неврастения»…
Это интересно, насчет нервов. Все мы немножко психопаты. Надо почитать.
«…Заболевания нервной системы, относящиеся к неврозам, развивающимся вследствие длительного перенапряжения, переутомления, недостатка регулярного отдыха и необходимой продолжительности сна…»
Так, перенапряжение, переутомление… Есть. После войны у всех есть.
Насчет регулярного отдыха у нас в роте нормально. Спим вдосталь.
«…а также после длительных неприятностей, систематических психических травм…»
Распахивается дверь, в проем, как в портретную раму, вписывается ефрейтор Потапов. Начищенный, подтянутый, слегка вспотевший.
— Он читает! В казарму, живо! Личный состав строится!
Можно и не торопиться: Потапов вечно порет горячку, суетится, выслуживается. Воображает себя героем в будущей фантастической войне, про которую он все знает из книжек. Потапов конечно, пойдет учиться на офицера — у него все данные к этому. Каждому своя дорога, я понимаю, но зачем орать?.. Быстро складываю книги, не очень старательно бегу за Потаповым.
В казарме никакого построения. Наоборот, полный порядок обыкновенной жизни: отдыхающие спят, свободные от службы, разбившись на две группы, занимаются. Руководят занятиями Бабкин и Беленький. Офицеры, должно быть, в канцелярии, совещаются. Я замечаю — занятия идут больше для вида, чтобы создать деловую атмосферу (вот, мол, всегда у нас так!). И в общем-то у нас действительно всегда так. Но сейчас весь личный состав сплоченно старался доказать это.
— Сержант! — окликнул меня Бабкин.
Я присоединился к его группе, изучающей тактико-технические данные РБМ (радиостанции батальонной малогабаритной) — нашей родненькой, мучающей нас на всех учениях.
— Ефрейтор Мищенко! В передатчик не поступает питание. Как вы будете действовать?
— Як действувати? — медленно распрямляет себя полууснувший Мищенко. — Та хиба ж…
От соседней группы слышится ровный, железно четкий говорок старшины Беленького:
— В артиллерии наиболее распространены затворы поршневые и клиновые…
Мне здесь лучше, у Бабкина. РБМ знаю наизусть, да и, кроме меня, есть кого спрашивать, «салажат» достаточно. Устраиваюсь поудобнее, смотрю в окно. Видна кромка березового леса — розовые жилки-веточки, кусок неба, фиолетового от мороза, низкие и плотные дымы города. Слушаю словно бы отдаленное бухтение голосов, думаю: «Уже время обеда, но команды не дают — ждут полковника». А вот шепоток рядом:
— Ну, как сигнал?
— Точно. Поймал Рыбочкин. Важный. Из штаба вроде подтвердили.
— Наградят Рыбочкина?
— Должно…
Течет, журчит время. Приоткроешь глаза — сиянием неба, белыми дымами, розовыми жилками, расщепившими воздух… Смежишь веки — говорком, теплом, необоримой ленью… И внезапно команда:
— Строиться на обед!
Значит, все, не будет командира полка. Ложная тревога. Кто-то в штабе подшутил или полковник отложил приезд. Обидно стало за командира роты, всех офицеров, за себя — так готовились, старались, начистились, душевно напряглись. Ждали с радостью и страхом, как и положено встречать высшее начальство. И вот будто отменили праздник. Будто обманули. К чему же тогда «фронтовой обедец» Шемета— тоже человек старался. Конечно, съедим, однако без необходимого на то права.
Строимся, выравниваемся. Подталкиваем друг друга, вполголоса бранимся. Все пошло по-обыкновенному, скучновато. Даже старшина Беленький в забывчивости держит рукой пряжку ремня — редкостная для него небрежность.
— Смирна-а!
И тут во всю ширь распахивается дверь канцелярии, из нее, словно выстреленные, вышагивают майор Сидоров, капитан Мерзляков, командиры взводов.
— Отставить! — негромко бросает, не глядя на строй, Сидоров, идет к выходу.
— Разойдись. Продолжать занятия! — мгновенно сработал старшина Беленький. — Моя группа ко мне!
Рассаживаемся, настраиваемся на занятия. Бабкин торопливо распаковывает оба ящика радиостанции, разбрасывает такелаж по столу, вызывает Мищенко.
— Тактико-технические данные…
— Та я ж уже отвечав…
— Поперечный!
Смотрю в окно, на дорогу. Она острым белым лезвием впивается в рощицу, и на ней никакого движения. Смотрю. И в конце лезвия вдруг взвивается снежное дымное облако. Кипит, ширится, вытягивается вдоль дороги к казарме. Из него проступает тупое рыло «виллиса», два передних рубчатых колеса, стекло, кабина. На утоптанном дворе облако рассеивается, опадает, «виллис» подваливает к самому входу, клюнув рылом.
Шофер выпрыгнул из своей дверцы, обежал спереди машину, распахнул противоположную дверцу, отступил на шаг. В проем высунулась серая папаха, до блеска начищенный сапог, золотые широкие погоны.
Откуда-то сбоку, будто по воздуху, подлетел лейтенант Маевский — он дежурный по части, загородил маленького полковника, взял под козырек, вздернул подбородок (прислушайся — услышишь звон его тела), доложил. Слова его пробились в казарму стеклянным, обрывочным звяканьем. «Хорошо, что он дежурит сегодня, а не Голосков, — с успокоением говорю я себе. — Голосков испортил бы весь парад».
Полковник Стихин сделал шаг вперед, лейтенант отпрыгнул, как сшибленный щелчком, и в окне по-явился майор Сидоров. Неторопливо, но твердо, не распрямляя сутулой спины, буднично поднял к ушанке руку. Наверное, не успел ничего сказать — полковник махнул рукой, снял перчатку, протянул ладонь.
Маевский открыл дверь, пропустил вперед полковника и майора, влетел следом, из-за их спин прокричал:
— Ррота, смирно-о!
Мы вскочили, замерли. Полковник Стихин прошелся по нашим лицам медленным, до пронзительности емким взглядом, сам вытянулся, замер, как бы давая так же внимательно осмотреть себя.
— Товарищ полковник! Личный состав…
Он взмахнул рукой на стеклянный вскрик Маевского, слегка поморщился.
— Вольно! — точно среагировал Маевский.
— Постройте личный состав, — слабо приказал полковник.
Маевский выбежал на середину казармы.
— Ррота, становись!
Выстроились, как для боевого похода, во главе каждого отделения — отделенный, во главе взводов — взводные командиры. Майор Сидоров, капитан Мерзляков и лейтенант Маевский стали на шаг позади полковника. И он быстро двинулся вдоль рядов.
Нечасто навещал нашу отдаленную роту командир полка. Зато после любого наезда, особенно неожиданного, было что вспомнить и о чем поговорить: странностей у маленького, стремительного полковника Стихина было предостаточно, и никто не мог заранее предугадать его слов и поступков. В прошлый раз, осматривая казарму, он вдруг юркнул под нары. Вылез оттуда с носовым платком в руке и преподнес его майору Сидорову к самому носу: на носовом платке было пятнышко пыли. Дал изучить носовой платок командирам взводов. Рассказывают еще, в полку был случай: пришел полковник Стихин ночью в казарму — дневальный спит; снял его с дежурства, отправил спать, а сам дневалил до утра и ровно в шесть ноль-ноль произвел подъем.
Полковник короткими, непостижимо четко натренированными шагами идет вдоль первого ряда. Скошенным, нацеленным взглядом прощупывает нас с головы до ног, отчего кажется, будто кивает в отдельности каждому. Приближается ко мне. Костенею. Ловлю влажный, почти плачущий взгляд, выдерживаю. Он утекает вниз, как бы сплющивая меня (еще больше, до задыхания убираю живот), тяжко падает на ботинки… И возносится вверх и вкось — на моего соседа Скуратова. Пронесло. Расслабляюсь. Радуюсь чему-то. А может быть, чуть-чуть злорадствую: посмотрим, как другие! Не повезет же кому-нибудь.